Как жил Довлатов: воспоминания друзей
04 сентября 2016 | 18:17| КультураДрузья и знакомые Сергея Довлатова в рамках «Дня Д» поделились воспоминаниями о нём: как Довлатов учился в университете, чем жена писателя угощала незваных гостей, и за что коллеги по редакции недолюбливали его стихи — «Диалог» записал самые интересные истории.
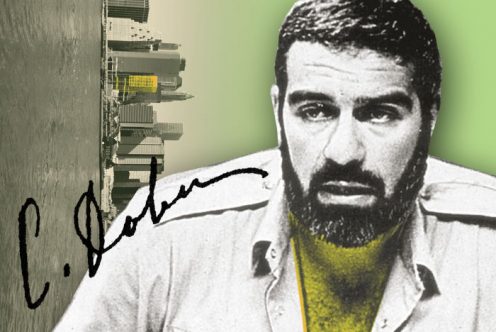
Андрей Арьев, литературовед, литературный критик, прозаик, соредактор журнала «Звезда», однокурсник и друг Довлатова:
«Я познакомился с Сергеем в 1959 году, мы оба учились в Ленинградском университете на филологическом факультете. Я учился на русском отделении, а Сергей на финском: следовательно, занятия у нас были разные, но были общие лекции, на которых мы часто встречались и где литературно познакомились – обменивались не только впечатлениями о литературе, но и своими опусами. Уже тогда Сережа начинал писать небольшие рассказы. Как-то на лекции он дал мне прочитать свое произведение. Я отозвался без особого воодушевления, на что он сказал: «Обидеть Довлатова легко, а понять трудно». Это первая фраза, сказанная мне Сергеем Довлатовым, которую я запомнил. После эти слова стали лейтмотивом его отношений с людьми. С одной стороны, в общении с Сергеем Довлатовым без хохота никогда ничего не происходило, всегда было смешно. Сергей был необыкновенным наблюдателем и любые изменения улавливал мгновенно. Но в то же время он был человеком глубоко ранимым и вся его жизнь прошла в борьбе и утверждении того, что слово дано, чтобы оживить мир, чтобы он казался смешным и веселым. Однако во всех произведениях Довлатова за этим весельем стоит достаточно горький опыт: сложно представить, каково это — вынужденно 15 лет писать в стол и не получать никакого массового отклика. Для Довлатова очень важен был диалог и все его книги держатся на диалоге свободных людей. В каком бы внешнем депрессивном виде они ни пребывали, но это всегда диалог свободного человека с человеком несвободным, который изображен достаточно саркастически».
Татьяна Никольская, литературовед, друг и соседка Довлатова по улице Рубинштейна:
«С Сережей Довлатовым мы с мужем [Леонидом Чертковым] познакомились в конце 60-х годов на дне рождения Жени Рейна, 29 декабря. На следующий день раздался звонок: Сережа пригласил нас в гости встречать Новый год. В гостях у него были Люда Штерн с мужем Витей, друг Сережи Валера Грубин и еще несколько человек. Мы впервые увидели холодную красавицу Лену (жену Довлатова — ИА «Диалог») и высокую статную маму Нору. Вскоре мы с мужем переехали с Петроградской стороны на улицу Рубинштейна, 9/3 и стали бывать у Сережи по-соседски. Приходили без звонка, иногда вместе с нашими гостями. Если Сережи не было дома, Лена просила подождать, угощала чаем, а то и варила картошку. Разносолов не припомню. На стене у Сережи висел график рассылки его рассказов и повестей в редакции и издательства, каждый ответ он отмечал в специальной графе и, как правило, ответы были отрицательные».
«Довлатов охотно давал читать свои рассказы, с тех пор помню «Переезд на новую квартиру», «Ослик должен быть худым». Читали мы и «Зону», которой восхищался наш общий друг [Кирилл Успенский]. Он вместе с моим мужем Леней сидел в либеральные хрущевские времена в лагере за антисоветскую пропаганду. Кирилл Владимирович [Успенский] ставил эту повесть выше юмористических произведений, нам же тогда больше нравились веселые вещи. Сережа приглашал нас в гости к своим друзьям — неофициальным писателям Саше Севастьянову и другим. Это была компания, в которой он чувствовал себя раскованно, а вот на молодых писателей, которые были старше его всего на несколько лет и творчество которых он ценил, он смотрел снизу вверх, хотя физически это и невозможно. А, может быть, просто завидовал: потому что им удалось протащить кое-что через цензурные заграждения печати. Из писателей чаще всего он упоминал Шервуда Андерсена, фото которого было тогда в квартире каждого человека, причислявшего себя к интеллигенции. Говорил Сережа часто о необходимости выбирать слова, о мастерстве, которое не бросается в глаза».
«Последний раз мы встретились с Сережей около Владимирского собора уже перед его отъездом. Он только поздоровался и сразу же достал каталог издательства «Ардис», где было объявлено о выходе его «Невидимой книги». Он сказал, что теперь может ехать в Америку, хотя ему все равно страшно».
Константин Азадовский, литературовед, однокурсник и друг Довлатова:
«Воспоминания — страшная вещь и довольно опасная. Человек умирает и начинается мифология, поэтому я хочу сказать сразу, что не могу считать себя близким приятелем Сережи Довлатова. Мы были с ним знакомы, коротко и близко знакомы, но близость эта была относительная. Зато я могу сказать с полным правом, что наши отношения с ним были очень длительные, примерно такие же к и у Андрея Арьева. Отношения начались на филологическом факультете Ленинградского университета. Тогда, в том далеком 1959 или 1960 году на филологическом факультете сложилась небольшая компания молодых людей и девушек, которые шли навстречу друг другу. Точно не могу сказать, когда и при каких обстоятельствах произошли мои первые встречи с Довлатовым, потому что на филфаке все были знакомы друг с другом, — я помню его скорее уже как «Сергея и Асю Пекуровскую», которые сидели на известной площадке филфака на втором этаже и всегда о чем-то болтали. Вскоре после знакомства выяснилось, что у Сережи задолженность и даже несколько, по разным предметам, и вообще дела у него на факультете обстоят не лучшим образом. Почему-то — мне до сих пор не понятно почему — он оказался на финно-угорском отделении и должен был стать специалистом по финскому и венгерскому языкам. Но финно-угорской филологией он явно не увлекался, да и с языками у него вообще не очень ладилось. Американский период тоже это подтверждает: все, кто его близко знал, подчеркивают, какие у Сережи были проблемы с языком. Я даже думаю, что это была не столько неспособность овладеть языком, сколько позиция русского писателя, осознающего себя глубоко вкорененным в свой родной язык, и которому внутренне трудно переключиться на другой».
«Мы собирались в то время в разных домах, в разных компаниях. А собраться тогда где-то вообще было проблемой, чаще всего мы бывали у Игоря Смирнова, у которого была квартира. И вот то интеллектуальное и духовное состояние, в котором мы пребывали на рубеже 1959-60-х годов, заслуживает пристального внимания. Это была особая атмосфера: формировалась особая культура общения, в которой ведущую роль играл рассказ о чем-то не главном. Юмористический, веселый, чтобы оживить и заинтересовать компанию – это было основным. Вы, наверное, помните, какую роль в ту пору играл анекдот, рассказанный во время застолья. Я не хочу сказать, что мы занимались только тем, что рассказывали анекдоты, но установка на рассказ преобладала, и многие в этом кругу были замечательными рассказчиками. Впоследствии, читая Довлатова, я узнавал в его творческом почерке некоторые приемы, которые мне были знакомы еще с тех пор, в частности по рассказам [Евгения] Рейна – рассказы увлекательные и не имеющие отношения к реальности».
«Наша последняя встреча в России состоялась осенью 1978 года в ОВИРе. У меня были поданы документы, меня тогда пригласили в гости мои друзья в Германии. Мне тогда отказали, и, на выходе из кабинета я встретил Довлатова. Он попросил подождать его, и через некоторое время вышел с грустным и печальным лицом. Я ничего не знаю про его отъездную историю и решил, что ему тоже отказали. Оказывается, нет, но лицо у него было грустное».
«После этого мы с ним встретились уже в Нью-Йорке. Он стал меня как новичка опекать и вел мой вечер в декабре 1989 года, написал несколько книг. Расставаясь, он сказал: «Я хочу сделать тебе подарок». Подарком оказалась металлическая солдатская фляга. Он сказал, чтобы она всегда была наполнена и попросил не забывать о нем. Эта фляга стоит у меня до сих пор и всегда наполнена. Вспоминая с друзьями Сережу, мы тянемся к этой фляге и пользуемся ее содержимым».
Нина Аловерт, фотограф и театральный критик, неоднократно снимала Довлатова в эмиграции:
«Я очень много снимала Довлатова, а познакомилась с ним в Нью-Йорке и, думаю, застала его в самый счастливый период как писателя. Познакомилась я с ним в 1979 году. Мы принадлежали к так называемой «третьей волне эмиграции», нас объединяла очень важная вещь – мы уезжали навсегда. Мы ехали не просто посмотреть, а навсегда. То ли мы умирали, а люди оставшиеся продолжали жить, то ли наоборот. Приехав в Америку, мы старались найти в ней свое место – жить, учить язык. Но первые годы мы интересовались друг другом и часто собирались вместе. Нам было интересно, нас многое объединяло. Собрания происходили в основном на частных квартирах. Собирались огромные общества, устраивались выставки самого высокого уровня и приходили все, кого интересовало русское искусство. На одном из таких собраний я познакомилась с Довлатовым. Там я начала его снимать. Когда он закончил чтение своего произведения, я сняла крупный план, а он посмотрел на меня с высоты и сказал: «Это еще кто?» Как потом он мне рассказывал, моя приятельница махнула рукой и сказала: «Это бедная и жалкая, пусть снимает». Потом я стала думать, что это была одна из его баек: он любил что-нибудь такое придумать и посмотреть на реакцию. После этого я снимала его много, он был к этому лоялен и сохранилась целая серия фотографий, посвященных жизни Довлатова в Америке».
Елена Скурская, поэт и эссеист, коллега Довлатова в газете «Советская Эстония»:
«Я пришла к своим приятелям поздним вечером — в комнате был полумрак, горели свечи — и увидела, задвинутого в угол, высокого роста, возвышающегося над столом человека. Когда я открыла дверь и вошла, он вскочил и закричал: «Зачем вы стреляли в Ленина?». Может быть я сейчас не похожа на Фанни Каплан, но тогда видимо были сходства».
«Потом мы работали в одной редакции, и Сергею все время казалось, что в нашей редакции можно что-то изменить. Это была партийная газета, но ему постоянно хотелось придумать что-то интересное. И вот он придумал полосу «для больших и маленьких». Там он вел рубрику: сочинял стихи, благодаря которым русские дети должны были узнавать какое-то эстонское слово. Как-то он сочинил стихотворение: «Таню я благодарю за подарок Танин, ей спасибо говорю по-эстонски — tänan». Этот стих, благодаря рифме, разошелся по редакции — а мы работали в Доме печати, поэтому о нем узнали и в других редакциях. Мы уже было собрались издавать эту страничку, как явилась заплаканная дама по имени Таня из редакции со второго этажа, попросилась к Сергею на прием и сказала: «Сережа, давайте объяснимся, это все клевета. Я знаю, кто именно меня оклеветал, и я даже знаю, почему он это сделал. Я его бросила, и теперь он мне мстит этими страшными сплетнями и вы, Сергей, меня должны правильно понять и не публиковать это стихотворение. Я вам могу принести справку о своем полном здоровье, и Модест Иванович может подтвердить, и все вечерние редакторы: поэтому разговор о том, что я наградила его подарком — это абсолютная ложь». Когда Сергей в растерянности стал недоумевать, почему именно так было интерпретировано стихотворение, открылись двери и пришли все Тани, которые работали в Доме печати. Одни приходили с вежливой просьбой, а другие говорили, что доберутся до беспартийного Довлатова, который клевещет на честных женщин и что их честность готова подтвердить вся мужская часть нашего большого Дома печати».
«У нас висела табличка, которую начальство снимало, но потом она все равно появлялась. Она появлялась на отделе культуры, где Сергея не печатали, потому что он работал в отделе информации и достигнуть контрольных шедевров отдела культуры не мог. На табличке было следующее двустишье: «Две удивительные дуры ведут у нас отдел культуры». Удивительные дуры все время объяснялись, что имелись ввиду совершенно другие женщины, которые до них сидели в отделе культуры, а вот они умницы и их совершенно напрасно оклеветали».
«В нашей редакции было много колоритных персонажей, которые были интересны Сергею именно как персонажи и в частности был такой знаменитый Игорь Гаспель, который все время писал доносы в Комитет государственной безопасности. Писал он даже на своего родного сына, который осмелился соблазнить невестку первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии. Гаспель предложил объявить своего сына во всесоюзный розыск, потому что сын совершил этот аморальный поступок и скрылся от папы. Во всех партийных газетах были тогда кураторы из КГБ. Они приходили к нам, собирали собрание и говорили: «У нас не МВД, не забегаловка, у нас КГБ. К нам нельзя писать добровольно, мы вызываем — и тогда можете писать. Избавьте нас, пожалуйста, от Гаспеля». А он все равно писал, чувствуя, видимо, в этом какое-то главное жизненное призвание — и у Сережи о нем были замечательные стихи с каламбурной рифмой: «Увидишь в коридоре Гаспля, скорей надень противогаз, бл*».
«Как-то на одном редакционном сборище я убедилась, что почти все в нашей редакции к Сергею Довлатову обращаются на «ты», что ему было неприятно. Со мной он был на «вы». Однако видя, что все с ним на «ты», я как-то подошла к нему и предложила перейти на «ты». Он ответил, что это невозможно, я решила настоять и все же потребовала объяснений. Он ответил, что на «вы», потому что «чту, бл*».
«Все розыгрыши, которые устраивал Сережа в редакции, каким-то образом отражались в его творчестве. Однажды зимой Сережа пришел в редакцию бритый наголо, мы поздоровались, и я пошла в свой отдел. Он удивился, почему я ничего не сказала, и добавил, что большая часть редакции решила, что его арестовали, но временно отпустили с подпиской о невыезде; другая часть высказалась, что уже как бы начался процесс о нем как о диссиденте, но тоже вмешались другие силы; кто-то просто прозаически решил, что он провел ночь в вытрезвителе и там его обрили — и только я не сказала ни единого слова. Я ответила, что не заметила, что он побрился, но заметила, что всю зиму он ходили без шарфа и хотела подарить ему шарф, но постеснялась. На что он сказал: «То есть хотел пошутить и вызвал жалось. Ваш многострадальный Довлатов, пойду писать». Позже я в нескольких письмах видела эту подпись — «Ваш многострадальный Довлатов», то есть эта история запомнилась. В одном из писем он мне писал: «Любой дружеский жест меня волнует чрезвычайно, дальше этого я обычно не иду». Я полагаю, что всякий дружественный штрих в человеке он подмечал моментально, но, может быть, мог не заметить целую жизнь, отданную ему».
«Если говорить о письмах, то касались они не только того, что главная трагедия его жизни — смерть Анны Карениной, или что он придумал себе новый псевдоним «Михаил Юрьевич Вермутов». Там было очень много глубоких и важных для него в дальнейшем мыслей. В частности я все время, на протяжении последних 30 лет, вспоминаю его письмо о сути творчества. Там было сказано, что поэзия есть форма человеческого страдания: не уныния, не меланхолии, не флегмоны, а именно страдания в прямом физическом смысле слова — «как от удара лыжами по морде». Не надо думать, что можно жить хорошей жизнью и при этом писать хорошие стихи, говорил он. Может быть только так: плохая жизнь, а стихи замечательные: пути искать не стоит, доброго и хорошего они сами найдут».
Юрий Авербух (как услышано), неведомый знакомый Довлатова:
«Я просто знакомый с большим стажем, с года 60-го с ним знаком. Сережа был замечательный, добрый, прекрасный и очень несчастный человек. Мы познакомились с Довлатовым в ресторане «Восточный» на Невском. После вечера в ресторане мы с моим другом Радиком пошли к нему. Легли спать — и вдруг раздается стук. Открываем дверь: стоит огромный, высокий человек. Довлатов начал надвигаться на моего друга и спрашивать, где Ася (Пекуровская, первая жена Довлатова — ИА «Диалог»). Надо сказать, когда я увидел, что дело принимает серьезный оборот — два тяжеловеса идут друг на друга — я взялся за кочергу и в кальсонах подошел, чтобы как-то помочь Радику. Друг мой однако ответил, что не знает, где Ася — тогда Сергей снял зимнюю шапку, заплакал и ушел. Через полгода в квартире на Маяковской, где я жил, раздался звонок в дверь – стоит он. Меня он узнал и говорит: «Здравствуй, это ты с кочергой в кальсонах?». Да, говорю, проходи. Как оказалось, он принес мне документы по просьбе моего друга. И на протяжении двух месяцев приносил мне эти записки. А друг мой был тогда на зоне: и это же надо было так рисковать и приносить записки с зоны! Довлатов считал, что и с этой, и с той стороны проволоки одинаковые люди. После этого мы с ним подружились.
«Помню, как мы шли утром ко мне — я жил на тот момент на Моховой улице, и, помимо знаменитого пивного ларька, который он описывал, в доме 47 был вытрезвитель. Вот мы проходим, там открыты окна и лежат советские богатыри в наколках. Довлатов говорит: «Да, эту страну невозможно победить». На Моховой у меня было неплохо: хоть квадратных метров там немного, двенадцать, но зато высота шесть метров. По этом поводу он мне как-то сказал: «Юрок, ты, может быть, здесь и повесишься». Но, как видите, я не повесился».
Записала Анастасия Голубничая / ИА «Диалог»









