«В 11 часу учинён был застенок, и потом разъехались»: тюрьма в Петропавловской крепости
19 июля 2018 | 20:00| Петербург и его сердцеКак бы ни пытались мы перевернуть представление об истории, «из песни слов не выкинешь». Самое сердце Петербурга — тому доказательство. По иронии судьбы, сон почивших императоров вместе с верными слугами охраняли самые ярые противники царизма, главные революционеры Российской Империи. Как крепость превратилась в главную политическую тюрьму страны, кто и как ожидал своей участи в её стенах — исследовал «Диалог».

«-Как твое имя? — спросил я однажды моего доброго, божественного солдатика, когда он подавал мне мыться в углу за печкою.
— Зачем, ваше высокоблагородие, вам знать мое имя? Я человек мёртвый!..
И точно, как я узнал после, это мертвецы, которые ухаживают за мертвецами. Никто из них не преступает никогда роковой Ponte di Sospiri [Моста Вздохов], отделяющей крепость от равелина, из опасения, чтобы не выносили сору из избы. Даже начальники этой страшной избы не иначе, как с позволения коменданта Петропавловской крепости могут временно выходить на божий свет, и то с большими затруднениями. Закупщик провизии для узников — унтер-офицер, каждодневно выходящий для закупок, до нитки осматривается при выходе и возвращении и отстранен от всякого сношения с прочими тюремщиками. Всё приспособлено так, чтобы могила была безответною», — так в своих воспоминаниях описывает быт Алексеевского равелина декабрист Михаил Бестужев.
«Маленькая комната возле места пытки»
В различных воспоминаниях то и дело встречается такое впечатление о тайной тюрьме: это страшный могильник, где от одиночества и ужаса можно сойти с ума. Как военная крепость превратилась в него? Когда до создания Секретного дома оставалось ещё полвека, в стенах Петропавловки появился первый известный политический узник — им по праву считается царевич Алексей. Сын Петра Великого не оправдал надежды отца и бежал из страны в Европу, где вёл переговоры с различными правителями о собственном будущем. Однако в итоге беглому царевичу пришлось вернуться на родину, чтобы отказаться от престола и предстать перед судом. На время следствия Алексея заключили в Петропавловской крепости, где царские покои сменились на Трубецкой бастион. Здесь располагалась и Тайная канцелярия, производившая следствие над изменником, — своеобразный первый политический сыск.
Описаний жизни царевича в стенах тюрьмы крайне мало, но даже по маленьким деталям можно составить представление о местных условиях. «Царевич, остававшийся во всё это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезён обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки», — писал голландский резидент Яков де Би. По свидетельствам современников, Алексея действительно пытали — так в один из дней ему было назначено получить 25 ударов кнутом. Смерть сына Петра до сих пор окутана тайной — по официальной версии он умер в силу естественных причин, по версии «народной» — то ли не выдержав пыток, то ли от рук соратников отца, не желавшего публичной казни изменника. В истории крепости это стало единственным случаем, когда узник тюрьмы был погребен в царской усыпальнице, как и подобает членам императорской фамилии.

Императоры и императрицы сменяли друг друга на престоле, а вместе с ними менялись, во-первых, казематы для содержания заключенных, а во-вторых, название ведомства, занимавшегося политическим сыском. Не менялось место для Тайных канцелярий и Особых экспедиций. К 1760 годам в Алексеевском равелине была сооружена деревянная тюрьма, которая пополнялась всё новыми знаменитыми узниками. Так, в заключении оказалась княжна Тараканова, представлявшая себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака с графом Алексеем Разумовским и наследницей престола. В Петербург девушку заманил граф Алексей Орлов, где её сразу же заточили в равелин. Когда Тараканова скончалась от чахотки, её похоронили в тюремном дворе. Не менее известным узником крепости стал писатель Александр Радищев, которого арестовали после успеха опальной книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Казематы, по освидетельствованию, к житию совсем не способны»
В конце века деревянная тюрьма была перестроена в камне и получила название «Секретный дом». Инициатива реконструкции относится к началу правления Павла I. «Деревянный дом находится в великой ветхости, для жительства не может более простоять, как год, а казематы, по освидетельствованию, к житию совсем не способны, поелику от вала земляного своды промерзают, проходит течь и находится великая через сие сырость и тяжелый воздух, почему господин коллежский советник Макаров подал мнение, что сделать прожект каменного строения, на которое мною сделано на 26 покоев с особливым двориком и входом», — говорилось в докладе, сопровождавшим проект перестройки.
Новая тюрьма представляла собой одноэтажное здание в форме треугольника, где размещалось порядка 20 одиночных камер, внутренний дворик и служебные помещения. Интересно, что обстановка камер отличалась для представителей различных сословий. Если в комнатах, очевидно предназначавшихся для представителей высшего общества, были пуховые подушки, мягкие одеяла и столовая посуда с серебряными приборами, то «простым смертным» приходилось довольствоваться куда более скромными условиями содержания. Это же касалось и рациона заключенных — в зависимости от социального положения арестанты получали белый или черный хлеб, мясо и гарниры. Процесс знакомства арестантов с новой и столь неблагополучной жизнью описал пастор Фридрих Зейдер, посаженный в крепость за наличие в его библиотеке запрещённой книги в 1800 году: «Комнатка, имевшая шесть шагов в окружности, была довольно чистенькая и светлая. Окно выходило на площадку, откуда постоянно доносился стук от производившейся там плотничьей работы. Оно было заделано решёткой, и, кроме того, стекла замазаны белой краской, так что на дворе ничего не было видно. В комнате стояла кровать с матрасом, одеялом и подушкой, стол и два стула. Так выглядело моё новое жилище. К нему был приставлен строгий караул: в комнате стоял солдат, впрочем без оружия; за дверьми двое других с обнажёнными саблями, и ещё двое в конце длинного коридора, также с оружием в руках. Ко мне вошёл офицер, которому я был передан (он был в чине майора и наблюдал за государственными преступниками); его сопровождал вахмистр, который по его приказанию отобрал у меня все сколько-нибудь опасные вещи. Обыск этот он произвёл весьма тщательно и не только забрал мой маленький нож, печатку, карандаш, лорнетку и всё, что было у меня в кармане, но снял ещё пряжки с моих брюк — словом, ограбил меня до последней возможности, причём мне пришлось раздеться до белья. В заключение сам майор потребовал мой бумажник и часы. Когда всё таким образом было у меня отобрано, дело дошло до моих вещей».
Внимание на себя обращает описанная пастором система охраны — за каждой камерой был закреплён круглосуточный трёхсменный пост, ведала охраной тюрьмы Тайная экспедиция. Только с приходом к власти Александра I секретная тюрьма была передана в ведение коменданта крепости, и положение дел в системе надзора за подследственными изменились. Условия и порядок пребывания заключённого в тюрьме определял военный губернатор города. Для каждого арестанта смотрителю тюрьмы нужно было получить конкретную инструкцию. Существовали и общие режимные правила: узникам равелина запрещалось говорить друг с другом или с кем-либо посторонним, прогулки должны были быть одиночными, а для развлечения арестанты могли воспользоваться тюремной библиотекой. Особый интерес представляет надзор караульных — в каждой камере находился круглосуточный пост. Причём охране было запрещено вести какие-либо беседы с заключёнными, за исключением служебной необходимости. Больше того, караульные и сами были под серьёзным контролем, так, к примеру, уходящих из равелина полагалось тщательно обыскивать.

Жизнь в тюремных покоях мало чем отличалась для арестантов. Интересно, что описание знакомства со своей новой действительностью многие мемуаристы-заключённые начинают с размеров. «Гипотенуза моего треугольника была почти в шесть аршин длины. В дверях было небольшое окошечко, завешенное снаружи холстом, дабы часовые, стоявшие в коридоре, могли во всякое время заглядывать за арестантами. В этом новоселье, лишь только вышел плац-майор, я усердно помолился богу; святой его воле предал совершенно себя, и жену мою, и всех близких сердцу, и особенно всех пленных и страждущих. Вскоре застучали шаги часовых, звякнули замки — сторож принес мне лампаду, горшок супу и огромный кусок хлеба», — писал декабрист Андрей Розен. Ему вторили и другие участники несостоявшегося восстания 1825 года, отличались только мелкие детали. Так, только у Сергея Трубецкого в «нумере» не было замазано белой краской окно, а в камере у декабриста Муравьёва в стену была вделана железная цепь. Николай Лорер писал, что наволочка на его подушке была настолько грязной, что под щеку он подкладывал свой платок. На стенах заключенных встречали надписи от их предшественников. Арестантские робы и туфли, дощатые кровати, оловянные миски, рацион из хлеба, щей и картофеля — все эти бытовые детали оказывали куда меньшее влияние на состояние заключенных, чем одиночество.
«Изобретатели виселицы и обезглавливания — благодетели человечества; придумавший одиночное заключение — подлый негодяй; это наказание не телесное, но духовное. Тот, кто не сидел в одиночном заключении, не может представить себе, что это такое», — писал сенатор Василий Зубков, посаженный в равелин вместе с декабристами.
Избавиться от одиночества помогали книги и переговоры — в глухой мрачной тюрьме их можно было проводить с помощью стука. В своих воспоминаниях Михаил Бестужев подробно описывает, как вместе с братом создавал особую азбуку. Первое время соседи по «нумерам» бесцельно перестукивались, давая друг другу знать о себе. Бестужев попытался простучать буквы по их порядку, однако оказался не понятым братом, да и сообщения бы пришлось передавать слишком долго, если отбивать буквы по их номерам. Вспомнив о службе брата на флоте, декабрист изменил принцип на знакомый нам — с квадратной буквенной таблицей. Буквы были поделены на согласные и гласные, особая роль отводилась звукам и скорости ударов. Однако создание разумной системы было только половиной дела, её предстояло объяснить собеседнику.
«Как мог не истощиться запас моего терпения при таких неудачах, понять может только тот, кто, быв погребён заживо в могилу, хочет достучаться до человеческого сочувствия, хотя стучась головою в стену своего гроба… И я, наконец, достучался до этого счастия», — писал декабрист.
Помог случай — обоим Бестужевым принесли одинаковые письма от матери, это стало своеобразным ключом к шифру. Братья совершенствовали азбуку, и даже выкинули из неё 14 букв. В беседу Бестужевы хотели включить сидевшего через камеру от них Рылеева, однако здесь случился полный провал «азбучной науки», виной которому стал поэт Александр Одоевский.
«Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львёнок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у наших тюремщиков волосы поднимались дыбом. Что ему ни говорили, как ни стращали — всё напрасно. Он продолжал своё, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиною, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку […] самая ничтожная безделица разбила в прах наши мечты… Одоевский не знал азбуки по порядку», — писал Михаил Бестужев.
Справится с одиночеством, найти утешение в чтении или попытках начать минимальное общение удавалось не всем. «Одиночное гробовое заключение ужасало. Там, где дают книги для чтения, где позволяют писать, сообщаться с родными и вообще с внешним миром, хотя под условием, предписанным законом, оно ещё сносно, но то полное заключение, какому мы сначала подверглись в крепости, хуже казни. Многие покушались лишить себя жизни, глотали стёкла, ударялись об стену, как сделал Генерального штаба офицер Заикин. Впрочем, это с его стороны было не малодушием. Он закопал «Русскую Правду» (конституцию) Пестеля и, по показанию его младшего брата, был допрашиваем о месте, где она была зарыта, и, опасаясь своей слабости, решился убить себя. Другой, проходя с плац-адъютантом около реки, бросился в неё, но был вытащен. Другие поплатились рассудком; некоторые умерли. Но человек может перенести очень много, а потому-то и это заключение было перенесено. Мы с братом были верующими, хотя только по названию, и не покушались ни на что подобное, а покорились своей участи безропотно. Зато страшно подумать теперь об этом заключении! Куда деваться без всякого занятия со своими мыслями? Воображение работает страшно. Каких страшных, чудовищных помыслов и образов оно ни представляло! Куда уносились мысли, о чём не передумал ум и затем всё ещё оставалась целая бездна, которую надо было чем-нибудь наполнить!» — вспоминал декабрист Александр Беляев.
Зачинщиков восстания казнили, многих декабристов отправили на каторжные работы в Сибирь. Казематы потихоньку пустели. Однако участью некоторых политических преступников Петропавловской крепости было до самой смерти испытывать могильный ужас одиночного заключения. Каждый выдерживал его по-своему.
«Бес» и «таинственный узник» в Алексеевском равелине
С 1870-х в крепости отбывал свой каторжный срок Сергей Нечаев — убийца московского студента и прототип Петра Верховенского в «Бесах» Достоевского. Нечаев считался не простым убийцей, а опасным революционером, поэтому для его охраны в равелине были приняты беспрецедентные меры. Заключённого запрещалось выводить в сад или в баню без особого разрешения коменданта, за всеми действиями в камере — например, за подачей чая — смотритель должен был наблюдать лично. Строгий надзор полагался не только заключённому, но и охранявшей его команде — за ними следили присяжные унтер-офицеры. Тем не менее Нечаеву удалось не только установить контакт с внешним миром, но и предложить «Народной воле» организовать ему побег. Он тщательно подбирал «подходящих» ему сторожей и ежедневно выступал с обращёнными к ним монологами, рассказывая о своих страданиях, о народе, царе, цитируя Священное писание и упоминая своих высоких покровителей. В большинстве случаев ему не только удалось разговорить «жертв», но и заручиться их поддержкой.

«Его действительно не только считали важной особой, не только уважали и боялись, но нередко трогательно любили; некоторые из солдат, например, старались доставить ему удовольствие, покупая ему газеты или что-нибудь из пищи на собственный счёт; особенно привязанные прозвали его «орлом». «Наш орел» — так называли они его между собою», — описывал Нечаева в «Вестнике Народной воли» Лев Тихомиров.
Солдаты — в большинстве своём бывшие крестьяне, малограмотные и с трудом представляющие себе наказание за разговоры с заключённым — действительно с лёгкостью переходили на сторону Нечаева. Долгое время Нечаев был всего лишь одним из двух арестантов, но когда в конце 70-х в равелин привезли новых арестантов, через охрану бывалый узник завязал с ними переписку и через них свёл знакомство с главной революционной организацией страны — Исполнительным комитетом Народной воли. Он предложил членам комитета освободить заключённых (включая, конечно же и себя), причём план революционера отличался оригинальностью. Состоял он в том, чтобы с верными людьми арестовать императора, когда тот приедет в Петропавловскую крепость.
«Верный своим старым традициям, Нечаев предполагал, что освобождение его должно происходить в обстановке сложной мистификации. Чтобы импонировать воинским чинам стражи, освобождающие должны были явиться в военной форме, увешанные орденами; они должны были объявить, что совершён государственный переворот: император Александр II свергнут, и на престол возведен его сын-наследник, и именем нового императора они должны были объявить, что узник равелина свободен. Все эти декорации для нас, конечно, не были обязательны и только характерны для Нечаева», — вспоминала Вера Фигнер.
На самом деле были и два вполне тривиальных варианта побега: бежать через трубы или просто выйти из крепости, переодетым с помощью верных охранников. Однако всё было решено как минимум отложить — народовольцы вовсю готовили убийство Александра II и не могли отвлекаться на ещё одну опасную операцию. Незадолго до их последнего, удачного на этот раз, покушения арестовали одного из главных членов комитета — Андрея Желябова. При нём была записка из секретной тюрьмы, однако содержания её следователи не поняли. Его открыл властям почти год спустя другой узник крепости — Леон Мирский. Команду, охранявшую Нечаева, отдали под суд, режим содержания ужесточили до крайности, а самого революционера фактически полностью отрезали от мира и общения. Вскоре он умер от разбушевавшейся в тюрьме цинги.
Сергей Нечаев провёл в заключении почти десять лет, но в истории российских тюрем — это ещё малый срок. Так, декабрист Гаврила Батеньков просидел в одиночном заключении 21 год 1 месяц и 18 дней. Чуть меньше в Алексеевском равелине провёл «таинственный узник» — Михаил Бейдеман. Таинственным его назвали по той причине, что личность его историки установили лишь к началу 1920-х, когда были рассекречены архивы III Отделения. Судьба Михаила Бейдемана необычна: он был вполне перспективным юношей, окончил военное училище в 1860-м году, после чего отправился в отпуск, погостить к матери. И пропал. Выяснилось, что из дома он отправился в Финляндию, а там, сменив армейскую форму на штатское, пешком перешёл границу со Швецией. Через год молодого человека арестовывают в финском приходе Рованиеми — он представился кузнецом из Орловской губернии, однако не смог предъявить паспорта. Через четыре дня «кузнец», наконец, открыл свою личность. Его сразу же переправили в Петербург, а там, при традиционном обыске в равелине, обнаружилось совсем уж неожиданное. В папиросной пачке, которую арестант взял с собой, нашли клочки писанной бумаги. Кусочки сложились в удивительный текст — манифест от имени «Константина Первого», сына великого князя Константина Павловича (именно он унаследовал престол после смерти старшего брата — Александра I). В документе «император» утверждал, что Николай I фактически узурпировал трон, заключив своего племянника в тюрьму. Сын Николая — император Александр II, по словам автора манифеста, грабил страну. Народу предлагалось, во-первых, свергнуть нынешнего царя, а во-вторых — совершить сразу несколько реформ. Первым пунктом значилось «Народ русский будет управляться сам собою, чиновники и всякая канцелярская челядь изгоняется на всём пространстве Российской Империи». В то время находка могла означать только смерть или каторгу. Так и остался Михаил Бейдеман в Алексеевском равелине, больше того — в течение долгих лет он был единственным заключенным секретной тюрьмы, без возможности хотя бы перестукиваться. Арестанты обычно назывались в равелине по номерам своих камер, поэтому для новых «постояльцев» имя его «потерялось». Нечаев, посаженный в равелин, писал народовольцам: «Несчастный узник, томящийся в заключении более 20 лет и утративший рассудок, бегает по холодному каземату из угла в угол, как зверь в своей клетке, и оглашает равелин безумными воплями. Проходя мимо ворот равелина в тихую морозную ночь, обыватели крепости слышат эти вопли. Этот безумный узник — бывший офицер-академик Шевич, доведенный тюрьмой до потери рассудка». Офицер-академик был переведен из крепости в психиатрическую лечебницу в Казани в 1881 году.
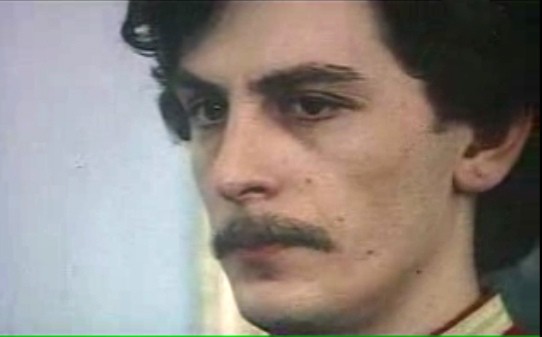
Историк Павел Щёголев в своём очерке о таинственном узнике приводит «скорбный лист», выписку из истории болезни, вот небольшой и трагический отрывок из нее:
«Ноябрь, 3, 10, 17, 24. В. т. 134, 134, 134, 133. «Я скуки совсем не знаю,- заниматься над своим делом — и всё пройдёт. Я всё знаю, что происходит везде и в городе». И если не может, по его словам, сказать, находится ли в настоящую минуту губернатор в городе или в отъезде, то только потому, что мало занимается этим, и скоро переходит к разговору о том, что «повышение и понижение почвы зависит от осевого движения Земли, оттого и уменьшение средств человеческого бытия сопровождается понижением почвы». По его понятию, люди родятся на определенном участке земли около Петербурга; в парке большого дворца есть квадрат человеческого рождения, на котором подымается сфероид, быстро увеличивается и появляется человек в беловатой оболочке, которая потом разрешается облаком, а человек выходит во весь свой рост.
1882. Январь, 4, 12, 19, 26. В. т. 132, 130, 131, 130. Перестал почти совсем разговаривать с врачом и только, вежливо раскланиваясь, отнекивался от всяких предложений и заявлений каких бы то ни было желаний, стараясь как бы скорее отделаться от лишнего человека, и оставался один в комнате долее. При разговоре в это время часто не смотрел на говорящего, а, стоя против и держа голову прямо, отводил глаза в сторону и кверху на одну и ту же точку. Делал это с значительным напряжением глазных мышц. По временам старался как бы не смотреть, в глазах накоплялись слёзы, и он, вежливо раскланиваясь, отговаривался и уходил, видимо тяготясь разговорами.
Апрель, 6, 13, 20, 27. В. т. 134, 134, 133, 136. Написал «Господину Начальствующему Каз. Гор. Полицией. Извещаю Вас о своем желании по обстоятельствам дела, — быть переведенным в Алексеевский равелин Санктпетербургской Петропавловской крепости. Честь имею быть состоящим в Каз. Гор. Больн. Матери всех Скорбящих. Поручик кавалерии на особом праве Мих. Бейдеман»».
«Выбыл арестант из №6 умершим»
С расцветом революционных движений российские тюрьмы заполняются всё новыми и новыми сидельцами, в Алексеевском равелине успели побывать и петрашевцы, и народовольцы. Последние, в основном, и занимали все камеры равелина, пока не умирали — на их место приводили новых «смертников». Частой причиной смерти были чахотка, цинга, туберкулёз. Камеры были сырыми и холодными, пища окончательно стала скудной, в качестве одежды заключённым выдавались обноски. Даже прогулки практически не дозволялись. Народоволец Михаил Фролов в своих воспоминаниях описывал, как на просьбу вызвать врача — у него заболели зубы — ему ответили, что зубы теперь у всех в Петербурге болят, и лечения от них нет, так что доктор заключённому без надобности. Постепенно у Фролова началась цинга, как и у многих других заключённых.
«А время потихоньку шло, да шло; яд могилы потихоньку всё глубже и глубже забирался в наше тело. Сначала от ходьбы начала появляться скорая усталость, потом на подошвах стала ощущаться боль, точно образовались мозоли или нажало ногу от неровноcти подвертки. Много хожу! решилъ я. Надо больше отдыхать! Сделал так. Новая беда!.. Посидишь на стуле, глядь, — ноги отекают. Лучше буду лежать… Лёг… Не помогает: под лодыжками опухоль появилась. Малокровие! решаю я и, найдя ржавый гвоздик в столе, вынимаю его, кладу на ночь в воду и утром пью ржавую воду. Пошел пятый или шестой месяц заключения, когда впервые повели нас гулять (на 1/4 часа). В первую прогулку дурно сделалось, голова закружилась от непривычки. На дворе, к несчастью, было сыро, холодно, а нас повели в тѣхъ летних курточках, что едва лишь закрывали живот. Разрезы в штанах свободно давали ветру гулять в ногах. И многие, если не сейчас, то позднее простуживались очень сильно», — писал революционер.

В какой-то момент начальство тюрьмы решило, что если государственные преступники продолжат умирать с такой скоростью, то и тюрьму придётся закрыть. Тут же улучшился режим, стали проветриваться камеры, дозволялось больше прогулок и изменился рацион. Однако, по словам Фролова, многим заключённым это уже не могло помочь, а только растянуло умирание. Вне зависимости от физического состояния на воле, тяжёлое заключение быстро превращало любого в старика.
Если судить по воспоминаниям и документам, то складывается впечатление, что жизнь в заключенных поддерживали нехотя, почти формально. Вот отрывок из одного рапорта: «Содержащийся в камере №6 Алексеевского равелина арестант, вследствие сильнейшего разрыхления и изъязвления дёсен цынгою, не может есть чёрного хлеба, а потому считаю необходимым отпускать сказанному арестанту, вместо отпускаемого ему чёрного хлеба, по одному фунту белого хлеба в сутки». Арестант из камеры №6 скончался в страшных мучениях, которые длились очень долго. Его звали Николай Клеточников. Это был знаменитый (и очень скромный) шпион «Народной воли» в III Отделении. Слабое здоровье у него было и до заключения, а в условиях равелина спрос с Клеточникова был особым — он стал не просто преступником, а предателем.
Народник Пётр Поливанов, сидевший в равелине, вспоминал о смерти товарища по несчастью, члена Исполнительного комитета Александра Баранникова. Современники описывали его как цветущего, здорового и энергичного товарища — равелин сгубил его меньше, чем за два года. Поливанов писал: «Я помню, его стоны разбудили меня в 3 часа утра, и я уже не мог более заснуть. Он стонал часа полтора подряд. Жандармы шушукались в коридоре, часто подходили к дверям и заглядывали в стёклышко, но не входили к нему. Наконец он стал стихать, стихать и совсем замолк. Прошло минут пять, и вдруг снова раздался стон, пронзительный, протяжный, и сразу резко оборвался. Всё было кончено. В шесть часов при обычном утреннем обходе в №14 зашел Соколов и сейчас же вышел. Заметно было, что оттуда не выносили вёдра, не наливали свежей воды, не подметали пола, словом, не делали того, что обыкновенно делалось. Часов в семь с половиной, раньше, чем доктор обыкновенно обходил больных, Соколов снова пришел с Вильмсом. Они пробыли в камере минуты две-три и ушли. Немного погодя жандармы вынесли труп и стали прибирать камеру».
Умерших, обозначенных номерами, выносили и хоронили, а на их место приходили новые. Революционная гроза росла и секретной тюрьмы уже не хватало, чтобы размещать всех «политических», поэтому многие новые сидельцы отправлялись в Трубецкой бастион. Условия там были примерно такими же, как и в равелине, только камер гораздо больше. Тем не менее, основная история равелина закончилась только к 1884 году, когда открыли тюрьму ещё более грозную — Шлиссельбург. К концу XIX века здание Секретного дома было уничтожено, от него остались только архивы и воспоминания тех немногих, кому удалось выжить в его застенках.
Подготовила Маша Минутова / ИА «Диалог»









